После смерти отца Дженелль возвращается домой, чтобы погоревать, но тут ей приходит счет за аренду дома от гораздо более молодой мачехи, которая когда-то была ее жестокой учительницей в средней школе. Но Элизабет не знает, что дом был оставлен Дженель. Теперь горе переходит в ярость, а молчание Дженель становится ее самым острым оружием.

В доме по-прежнему пахло им.
Кедр, кофе и слабый след одеколона, которым он всегда брызгался перед ужином. Я продолжала вдыхать, боясь, что запах исчезнет, что каждый его след ускользнет от меня, как и он сам.

В одну минуту он был здесь, шутил, что доживет до девяноста лет. В следующую минуту — звонок от дорожного патруля.
Столкновение с одной машиной. Смертельное.

Я прилетел на следующий день и с тех пор никуда не уезжал.
Моя квартира в городе стояла нетронутой, собирая пыль. Мне нужно было быть здесь. В этом доме. В доме моего детства. Единственное место, где горе не было похоже на свободное падение.

Элизабет, моя молодая и подражающая мачеха, была… вежливой. Двое ее маленьких детей бегали по коридорам, голося наперебой. Они не понимали, что произошло.
А Элизабет? Она вела себя как королева поместья, спокойная, уравновешенная, с правильным оттенком печали для всеобщего обозрения.

Мне было 22. Ей было 39.
Когда-то она была моей учительницей английского языка в седьмом классе.
Тогда ее называли мисс Элизабет. У нее был гладкий конский хвост, красные ручки, на которых запекся сарказм, и голос, который превращался в мурлыканье, когда она над кем-то издевалась. Особенно надо мной.

Я была смышленой, но нетерпеливой. Я задавала вопросы, много вопросов. Я думала, что для этого и нужна школа.
Но каждый раз, когда я поднимала руку, она резко вздыхала.
«Давай дадим возможность высказаться кому-нибудь другому, Дженелль» или «Мы уже достаточно наслушались из первого ряда».

Однажды она вернула мне доклад о книге с запиской, которая гласила:
«Не все требует твоего мнения, милая».
Другие дети засмеялись. Я перестала поднимать руку. Моя мама давно умерла. И я никогда не говорила об этом отцу.

Когда спустя годы он представил мне свою новую девушку, сияющую, гордую, пораженную, я почувствовал, как накренился пол. Я помню, как смотрел на нее, пытаясь примирить женщину за обеденным столом с той, которая заставляла меня чувствовать себя слишком сильно в присутствии 30 детей.
Она улыбнулась мне, как будто мы были незнакомцами.
Я ничего не сказал.

Папе было уже за пятьдесят. После смерти моей мамы он провел несколько лет в одиночестве. Элизабет снова заставила его смеяться. И он выглядел легче, когда она была рядом.
Так что я похоронил ее. Проглотил. Все это. Ради него.
После похорон я дала ей свободу.

Я складывала белье. Я убрался на кухне. Я пополнял запасы в кладовке без просьб. Я помогал с ее детьми, когда они были слишком беспокойными, чтобы сидеть на месте, и слишком маленькими, чтобы понять, как выглядит потеря.
Я готовила. Я убирала. Я закупала продукты.
Я не жаловался, даже когда она едва признавала это. Я молчал, когда она пропускала все благодарности и часами пропадала в своей спальне, пока я трясущимися руками перебирал папины вещи.

Я горевала.
Но она принимала гостей.
Я перебирала папину одежду, записные книжки, старые виниловые пластинки. Каждый предмет казался мне миной замедленного действия. Я открывала ящик и находила открытку, которую я сделала для него в восемь лет. Список продуктов, написанный его неровным почерком. Шарф, который все еще слабо пахнет им.
Я спала в комнате для гостей, в своей старой комнате, где плакаты моего детства все еще загибались по краям, уголки коричневели и загибались. Я чувствовала себя так, словно мне снова 12 лет. Как будто я маленькая в доме, где раньше чувствовала себя в безопасности.

Мы почти не разговаривали.
Так продолжалось до тех пор, пока ровно через месяц после похорон она не постучала в мою дверь с хрустящим конвертом в руках.
«Я подумала, что нам нужно кое-что уточнить», — сказала она, ее голос был сиропно-сладким. Слишком сладкий. Слишком гладкий. Болезненный.

Я вскрыл конверт. Внутри лежал счет. Аккуратно расписанный по пунктам.
Арендная плата за комнату. Коммунальные услуги. Продукты. Два ужина, которые она приготовила для всех нас. Чистящие средства («использовались, пока я присутствовала», — отметила она).
Я уставилась на него. Страница не расплылась, хотя я наполовину ожидал этого. Я почувствовал, как кровь отхлынула от моего лица, но не показал этого. Не перед ней.

Эта женщина, которая вышла замуж за моего отца. Которая когда-то высмеяла меня перед классом. А теперь она ходит по этим коридорам, словно сама их построила. Кто теперь требует с меня денег за существование в комнате, в которой я вырос?
Конечно же, она.
Но Элизабет не знала, что я не позволю ей этого.
На следующее утро я сварил кофе. Поджарил бублик. Не торопился начинать день.

Я двигался по дому так, словно он не разбивал мне сердце. Как будто каждый скрип половиц не был похож на то, что папа зовет меня по имени. Как будто мне не было больно от нелепости необходимости доказывать свое место в доме, в котором я родился.
Я положил конверт на кухонный стол как раз в тот момент, когда она вошла, одетая в слишком шелковый для траура халат.

«Спасибо», — сказала она, протягивая конверт. Она улыбнулась, самодовольно и ожидающе, как будто день зарплаты наступил раньше времени.
Она открыла его. И замерла.
Ее рот перекосился, когда она вытащила не чек, а сложенный вдвое лист.

«Что это, черт возьми, такое?!» — вскрикнула она, и цвет ее лица стал ярче.
«Я подумал, что нам следует кое-что уточнить», — я смотрел на нее ровным взглядом, уголки моего рта едва заметно подрагивали.
Она не заметила, как за ее спиной открылась входная дверь. Зато я заметил.

Через пять минут на кухню вошел мой адвокат Кайл с папкой под мышкой и спокойным выражением лица, которое говорило о том, что это всего лишь очередной вторник.
«Думаю, вам стоит присесть, Элизабет», — сказал я ей, сохраняя спокойствие. Я был собран. Я был спокоен так, как не чувствовал себя с тех пор, как умер отец.
«Почему здесь… адвокат?» Элизабет побледнела.

Кайл прочистил горло и открыл портфель.
«С момента смерти Джейкоба эта собственность по закону принадлежит Дженелль. Ваш покойный муж оставил дом ей в своем завещании. Единственный бенефициар. Подписано. Заверено нотариусом. Подано в окружной суд два года назад».
Ее рот открывался и закрывался, как у рыбы, вытащенной из воды.
«Нет. Не может быть. Это подделка! Это… Джейкоб никогда бы… он любил меня!»

«Он действительно любил тебя, Элизабет», — мягко сказал я. «И мой отец оставил небольшой траст для твоих детей. Но дом? Он всегда должен был быть моим. Не из-за стоимости, а из-за воспоминаний. За ностальгию, впечатанную в стены. Он строил его вместе с моей матерью. Он хотел, чтобы он остался в семье».
«Это несправедливо», — сказала она, качая головой, словно отгоняя мои слова.

«Что несправедливо, — холодно сказал Кайл. «Это пытаться взимать с кого-то арендную плату в его собственном доме. Ты пыталась воспользоваться горем Дженелль».
Я встретил ее взгляд.
«Я не сказала ничего раньше, потому что была убита горем. Я скорбела. Потому что думала, что мы сможем сосуществовать. Ради его памяти».
Я вздохнул.
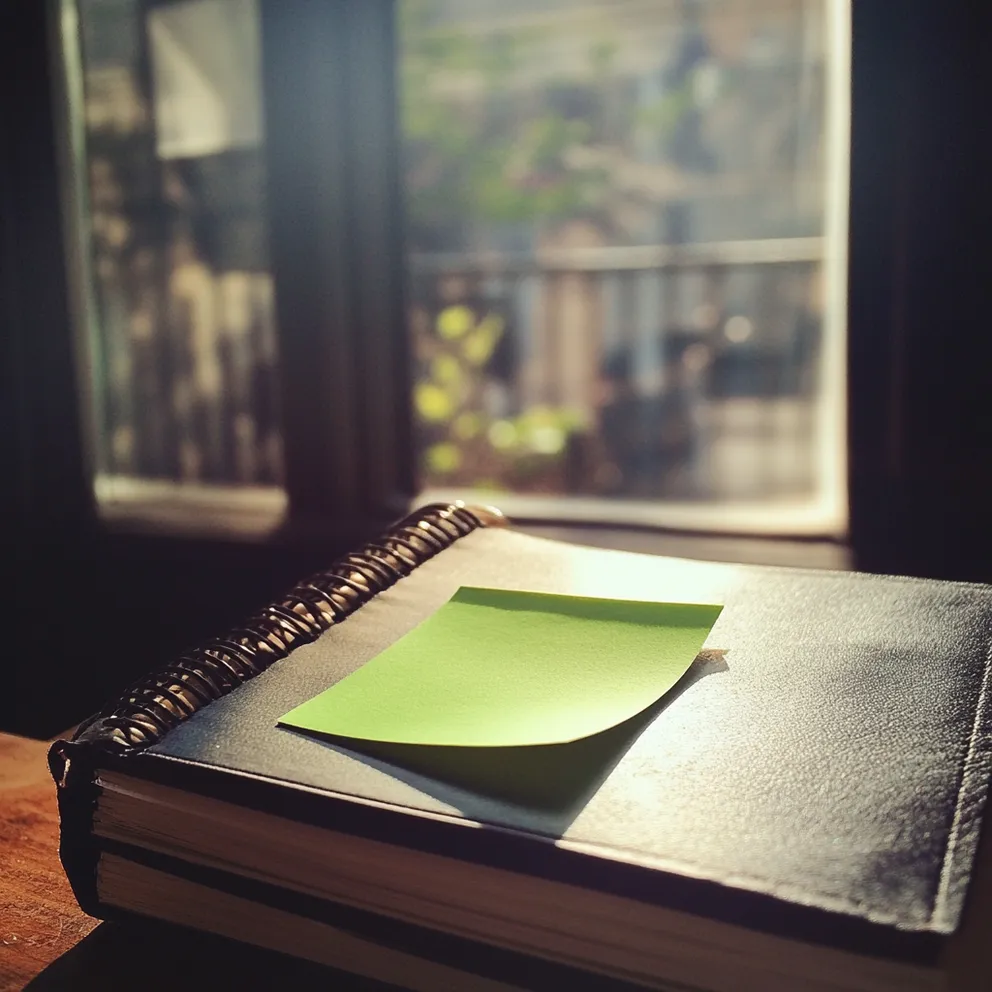
«Но если ты собираешься обращаться со мной как с жильцом, тогда я напомню тебе, у кого ключи».
Она зашипела. Пригрозила оспорить завещание. Она утверждала, что мой отец обещал ей больше. Больше в жизни и после смерти.
Но произнесенные обещания и подписанные документы — две разные вещи.

С юридической точки зрения у нее не было никаких прав. А эмоционально? Элизабет сожгла все мосты.
Я дал ей тридцать дней. Мне не нужно было. Но я дал.
В день отъезда она не попрощалась. Грузовик отъехал перед самым закатом. Ее дети выглядели растерянными. Я не винил их. Они не просили об этом.

Я стоял на крыльце, скрестив руки, сердце странно замирало. Ветер переменился и донес до меня аромат сирени, которую мама посадила под окном кухни.
До меня донесся шепот:
«Ты сделала то, что должно было быть сделано, Эль».
Она так и не оглянулась. И я не помахала рукой.

Тишина после этого была глубокой.
Не было слышно стука игрушек. Не было слышно шагов. Никаких пассивно-агрессивных вздохов за столом во время завтрака. Не было сиропного голоса, скользящего по кухне, словно ему там самое место.
Только я. Гул холодильника. Скрип лестницы. Медленная, тщательная сортировка вещей моего отца.
Это заняло недели.

У горя нет временных рамок. У него есть только углы… и я продолжала их поворачивать.
Один ящик привел к другому, и не успела я оглянуться, как дом стал предлагать мне частички его самого, которые я не была готова найти.
Нарисованные от руки карты нашего первого путешествия. Пожелтевшая свадебная фотография моих родителей. Мамин почерк на карточке с рецептом шоколадного торта с финиками, который мы так и не смогли правильно приготовить.

А на обратной стороне старого блокнота приклеен зеленый стикер:
«Пошла за молоком, Джен. Ты еще спала. Ты всегда будешь папиной девочкой. Люблю тебя».
Я так и не поняла, почему сохранила эту записку. Может быть, потому что она была обычной.
Но теперь она значила все.

Потому что это был его голос. И ее тоже. Ритм дома, который когда-то был полон, и который все еще может быть полон, на этот раз на моих условиях.
Однажды днем я нашла коробку, спрятанную за стопкой старых книг в шкафу в холле.
Внутри были наши с папой фотографии. Открытки на день рождения. Рисунки мелком. И письмо. Датированное неделей позже, когда он женился на Элизабет.
«Дженелль, моя милая девочка.
Если со мной что-нибудь случится. Если я не смогу попрощаться с тобой как следует, я хочу, чтобы ты знала… ты всегда была моей самой большой радостью. Я совершал ошибки. И, наверное, всегда буду. Но подарить тебе этот дом, о котором мечтала твоя мать и который я построил для нее… это единственное, в чем я уверен, что это правильно. Не позволяй никому отнять его у тебя».

Я прижала письмо к груди и впервые за несколько недель заплакала. На этот раз не от боли, а от того, что меня увидели.
В тот вечер я сидела за кухонным столом в окружении наполовину упакованных коробок из моей квартиры, к которым я не прикасалась с момента приезда. Я оглядела дом, наш дом, и поняла.
Я не собиралась возвращаться.
Срок аренды моей квартиры истекал в следующем месяце. Я отпустил ее. Я попрощался с местом, которое держало меня на протяжении всего колледжа, поздних ночных посиделок с раменом и коротких, неловких лет, когда я притворялся взрослым.
Это больше не было похоже на дом.

Дом был здесь.
Но я не хотел, чтобы тишина отдавалась эхом в каждом углу. Я не хотела, чтобы дом был похож на гробницу… на святилище горя и призраков. Поэтому я поехала в приют для животных, расположенный в двух городах отсюда, просто чтобы «посмотреть».
И вышел с двумя щенками.
Один был вислоухой дворнягой с ласковым взглядом и любовью к поглаживанию живота. Другой, поменьше и задиристее, кусал мои шнурки, словно был рожден охранять что-то ценное.
Я назвал их Арахис и Масло. Папа бы посмеялся. Мама связала бы им свитера.
Иногда я сижу в сумерках на ступеньках перед домом с чашкой чая, а эти двое дремлют по обе стороны от меня.

Я все еще слышу отголоски. Папин смех, мамино хмыканье, моя юность, когда я упражнялся в произнесении речей в щетку для волос за дверью спальни.
Дом — это не только стены и пол. Это память. Это кровное родство. Это последняя их часть, которую я все еще могу держать в руках.
Говорят, что месть сладка. Но это не было сладостью.
Это было правильно.
Элизабет многому меня научила… задолго до того, как вышла замуж за моего отца. Она научила меня подавлять себя. Как сомневаться в своей значимости. И как быть маленькой там, где я заслуживала внимания.
Но на этот раз?

Я прошел ее последний тест. Причем на высший балл.
А как бы поступили вы?
Это произведение вдохновлено реальными событиями и людьми, но вымышлено в творческих целях. Имена, персонажи и детали были изменены для защиты частной жизни и улучшения повествования. Любое сходство с реальными людьми, живыми или мертвыми, или реальными событиями является чисто случайным и не предполагается автором.
